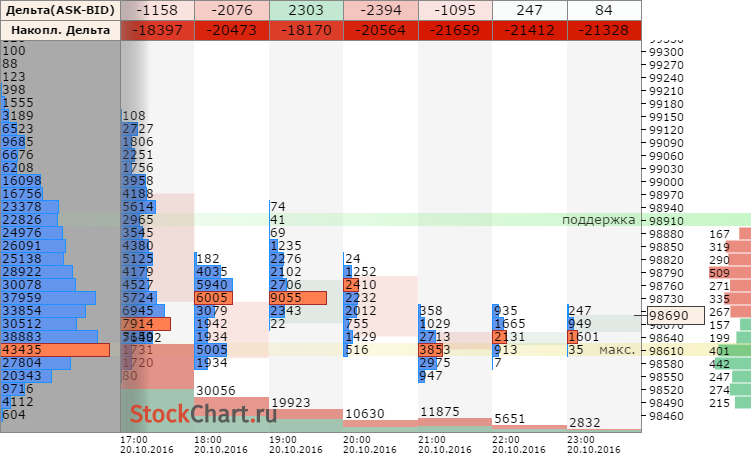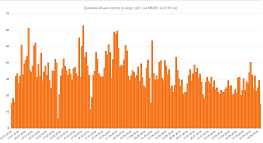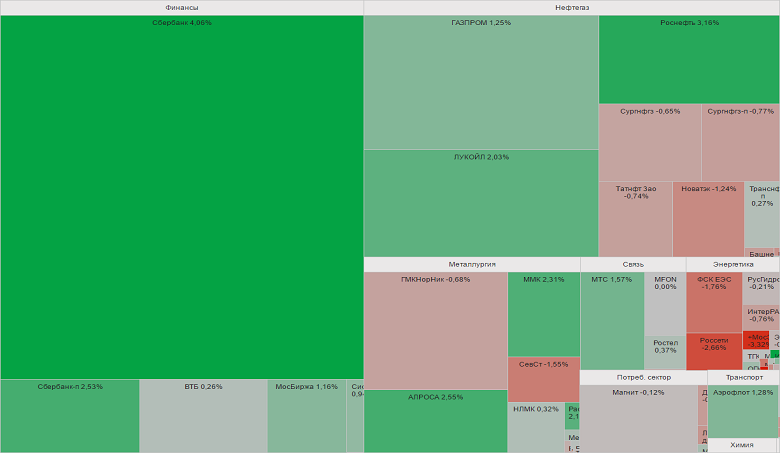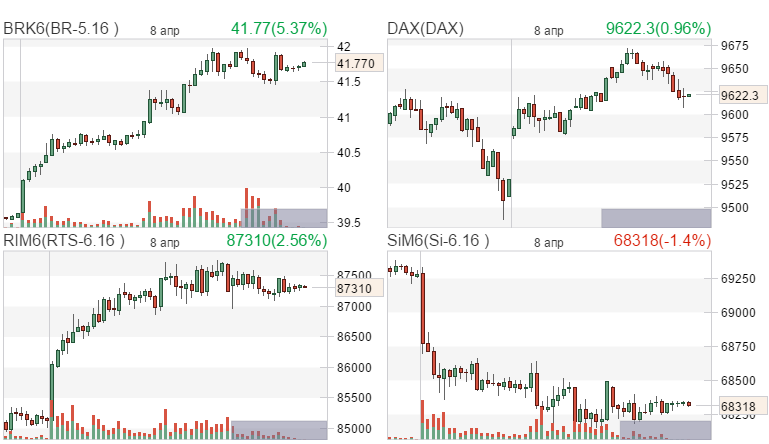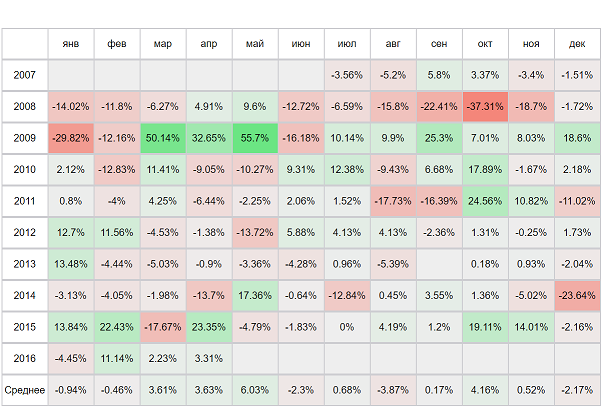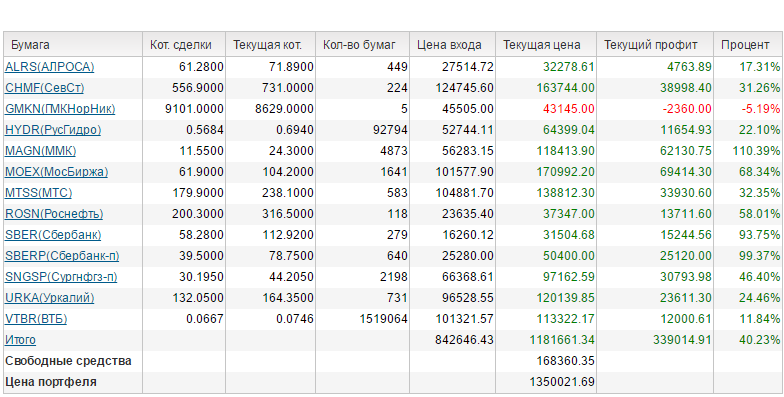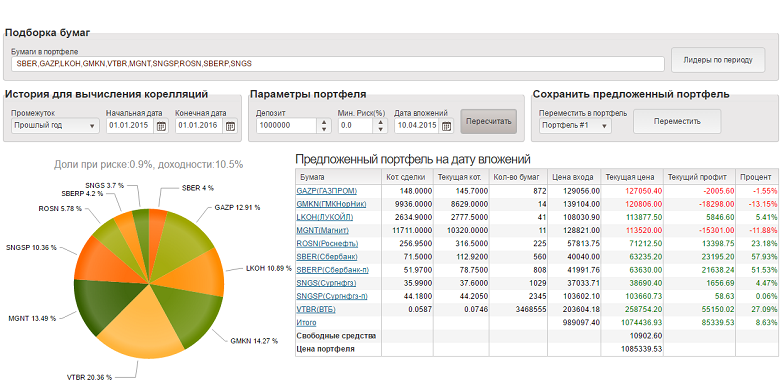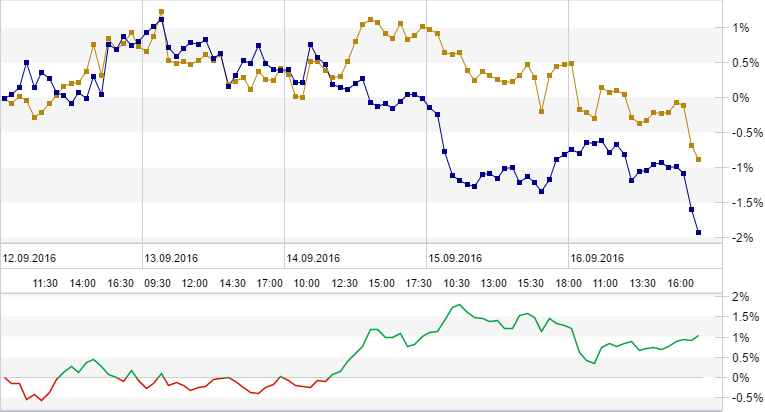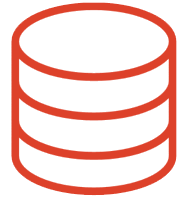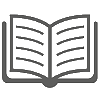|  |  | |||||||||||
 |
|
||||||||||||
 |  |  | |||||||||||||||
 |
|
||||||||||||||||

Техническая поддержка
ONLINE
 |  |  | |||||||||||||||||
 |
|
||||||||||||||||||
Передозировка историей. Понятия с Виктором Вахштайном* и Ириной Воробьёвой / 07.03.25
ruticker 08.03.2025 21:05:04 Текст распознан YouScriptor с канала Живой Гвоздь
распознано с видео на ютубе сервисом YouScriptor.com, читайте дальше по ссылке Передозировка историей. Понятия с Виктором Вахштайном* и Ириной Воробьёвой / 07.03.25
Всем привет! Вы смотрите и слушаете YouTube канал *Живой гвоздь*. Как всегда, раз в неделю, по пятницам в 17:00 по Москве, выходит программа *Понятия*, которую ведём мы вдвоём: я, Ирина Воробьёва, и вместе со мной Виктор Вахштайн. Здравствуйте! Добрый день! Ну что, у нас программа выходит в записи. Мы всегда честно говорим об этом, чтобы люди не писали в чат и не ждали, что я начну зачитывать их вопросы. Поэтому все ваши вопросы, возмущения, лайки, любовь и ненависть, пожалуйста, в комментарии. У вас это хорошо получается, мы периодически туда заглядываем, не останавливайтесь, продолжайте. А мы сегодня говорим на очень странную тему. Я, честно сказать, сопротивлялась, но она оказалась страшно интересной. Значит, возвышенное ощущение истории. Или как это лучше назвать? Вот как? Как это лучше назвать? Возвышенный исторический опыт? Исторический опыт? Да, точно! И я сопротивлялась, потому что у меня есть ощущение, что этот возвышенный исторический опыт несколько перебором уже в Российской Федерации. Но потом я почитала то, что мне послал Виктор, и решила, что ладно, поговорим. Хорошо, что такое возвышенный исторический опыт и с чем он связан? Мне нравится, как всегда, можно подкупить Ирину Воробьёву, послав ей книжку. То есть, надо забросить книгу и подождать. А да, книга Анкера Смита оказывает волшебное целительное действие. Но давайте начнём, наверное, не с книги, а с интуиции, с того, вообще, что это такое — переживание возвышенного исторического опыта. Представьте себе человека, который прожил всю свою жизнь без значимых исторических событий. Ну, то есть, возможно, какое-то одно — окончание Холодной войны и распад Советского Союза на его памяти было, но это было в детстве. К тому моменту он ещё не воспринимал это как что-то экстраординарное. А потому большая часть его, в общем-то, уже не короткой биографии проходит в таком безвременье, в том состоянии, которое политологи конца XX века очень любили называть концом истории. То есть, по сути, его биография оказывается сопоставима с биография множества других людей. Она определяется его жизненными выборами: типа выбор образования, учебного заведения, получение профессии, свадьба, рождение детей, развод, возможно, смена места жительства. Но так или иначе, его судьба, его биография сплетена из его собственных событий повседневности. И вдруг в какой-то момент, да, что-то происходит. Слышна поступь истории, происходят события, которые ну никак не вписываются в эту картину мира, которые по своим масштабам настолько превосходят все его биографические обстоятельства. А, ну вот как если бы человек всю свою жизнь прожил в квартире без окон и весь мир представлял себе в качестве такого огромного многоквартирного дома. Да, ходил бы периодически в гости к соседям, там тоже квартиры, где-то побольше, где-то поменьше, где-то получше, где-то похуже. Но при этом плюс-минус всё вот в такой вот приватной сфере выбора. Да, такой: не совершай ошибку, не выходи из комнаты. А потом прилетает метеорит и пробивает крышу. Вот он стоит и смотрит через эту дыру на вот это неожиданно открывшееся ему небо, которое он никогда до этого не видел, с переживанием восторженно-страха, восторженно-ужаса. Вот это и есть чувство возвышенного. Чувство возвышенного как раз и предполагает, что там нет ничего прекрасного, там нет никакого эстетического. Это не возвышенный героический пафос, это не возвышенные чувства, которые будут нас литература. Нет, возвышенное — это вот когда вы сталкиваетесь с чем-то, что настолько бесчеловечно по своему масштабу, по силе, что для чего у вас не находится подходящих слов и категорий. Вот тогда мы говорим, что это возвышенный опыт. Столкновение с возвышенным. И вообще-то не сразу применили к истории, стали использовать это понятие. Здесь ключевую роль сыграли два современника: это Эдмунд в Англии и Иммануил Кант в Германии. Кант написал свою работу первым в 1757 году, где он как раз противопоставил возвышенное и прекрасное. Прекрасное как категория эстетики предполагает, что мы получаем удовольствие от созерцания чего-то, и что-то, что мы созерцаем, имеет форму, оно ограничено. Да, мы потому и говорим, что, например, произведение искусства прекрасно, потому что не убавить, не прибавить, завен само себе, а само по себе, да, само в себе. Причём возвышенное — это что-то не просто бесформенное, а что-то настолько пугающее, настолько создающее вот этот ступор, да, вгоняющее в шок. Да, вы в шоке, вы с этим не сталкивались. Никто! Какая пандемия, какая война! А потом моментальная активизация всех жизненных сил, их высвобождение. Ну, мы иногда это высвобождение называем паникой. Соответственно, вот это состояние приостановки и вот высвобождение в том, что он называет восторженным ужасом, трепетом. А то, что он называет смесью чувства свободы и страха — это как раз вот уже кантовский вклад в эту историю. Но кроме того, Кант делает очень важный ход: все наши категории, там будь то прекрасное или все наши схемы, посредством которых мы упорядочиваем отношения к рассудку, это очки, через которые мы смотрим. Вот, например, в самом мире, говорит Кант, там нет ни причины, ни следствия. Да, там это результат того, что мы накладываем свою сетку восприятия на этот мир и начинаем видеть события этого мира как причинно-следственным образом связанные. Но вот как раз категория возвышенного имеет отношение уже не к рассудку, а к разуму. Она за пределами восприятия, то есть это то, что кладёт предел вот нашим схемам восприятия этого мира, всем нарративам, всем фреймам, всем оптическим устройствам. А, и повергает вас вот это ощущение восторженно-ужаса, да, столкновения с чем-то многократно вас превосходящим, бесчеловечным, потому что несоизмеримо человеку, да, не соотносить с ним. А, ну и дальше, соответственно, разные категории возвышенного, разные типы возвышенного. Историческое возвышенное — лишь один. Просто, ну, во-первых, спасибо, что вы описали ещё раз для всех 24 февраля 2022 года, 7 октября. Ну и тогда вот все вот эти жуткие события. И потому что было ступор, паника. Ну, не паника, но вот этот вот, ну, восторженный ужас — это, конечно, немножко не то, что я, мне кажется, могу отнести к панике. Ну, понятно, как это работает, но мне казалось, что в возвышенное чувство, историческое чувство или там вот это всё, оно как раз о том, что мы, говоря про историю, там страны, например, говорим, что ну да, вот там были репрессии, ну да, было вот это. Но как это? Сталин великий, да, он, значит, убил там миллионы на своих, ну, зато войну выиграл, ну, зато страну поднял. Вот что-то вот про это разве нет? А тут давайте сейчас немножко сначала посмотрим, какие есть вообще категории возвышенного, что вселяет этот трепет. Посмотрим, в какой момент история входит в игру. Потому что, в общем, если мы посмотрим, для Беркли, для Канта возвышенное пока ещё напрямую с историческим не связано. Событие, которое больше человека, настолько что он это переживание. То есть, например, ну вот да, посмотрим на Канта. Первый тип возвышенного он вообще называет математическим, поэтому к возвышенному имеют особое предрасположение математики и поэты. То есть это опыт столкновения с бесконечностью. У Канта не просто так звёздное небо над нами внушает ему сакральный трепет, именно потому что осознание ничтожности человеческого рода, осознание бескрайности космоса — это как раз первый способ столкновения с возвышенным. Другое он называет динамическим. Ходит, и вот для Канта уже история становится таким типом динамического возвышенного. Поэтому Кант, которого все считают пацифистом, вот автором трактата *К вечному миру* и так далее, заканчивает свою аналитику возвышенного в третьей критике тем, что народы, которые долгое время не ведали войн, утрачивают чувство возвышенного. Они в э... СХ. Туда входит. А многие интерпретаторы добавляют ещё третий тип возвышенного у Канта — это моральное возвышенное. Тот самый моральный закон внутри нас. Когда, я напомню, Навальный возвращается в Россию, именно в этот момент огромное количество наших с вами, в том числе, общих знакомых начинают испытывать вот это ощущение ужаса. Да, вот это от его выбора, от его поступка, от того, что он прекрасно осознаёт, что он идёт на смерть, по сути. Да, но вот это совершённое им действие, оно и запускает этот механизм: «Господи, что происходит?» Да, вот это соединение морального возвышенного и исторического возвышенного. Ну, но тут как бы просто я ехала тогда в аэропорт встречать Алексея, и я ехала, понимая, что это абсолютно историческое событие. У меня была абсолютная смесь ужаса, восторга и вот этого всего. Всё то, что вы описали, это всё так и было. Да, и вот это завороженно истории. Это буквально завороженно истории поступку одного человека. Вы в этот момент просыпаетесь не просто в новом мире, как мы любим говорить после 24 февраля и 7 октября, что вы проснулись в другом мире. Вы проснулись в другом времени. Вы жили в горизонте повседневных событий, вы жили в горизонте конкретных рациональных, поддающихся просчёту, воспроизводимых и предсказуемых элементов своего жизненного мира. Но вдруг вы проснулись в горизонте истории. Вы проснулись в историческом времени, вы стали свидетелем исторического события. Вы в какой-то момент задали себе вопрос, как ваши правнуки будут спрашивать ваших престарелых детей о том, что вы делали в этот день. Вы в какой-то момент почувствовали, что, возможно, в конце XXI века в учебниках истории то, свидетелем чему вы становитесь, будет указано с даты, не как там десятилетия хрущёвской оттепели, а как 20-й съезд или 9 мая 1945 года, с конкретной даты. Вот это чувство того, что вы не просто свидетель исторического события, но вы теперь живёте в ином временном горизонте, превосходит время вашей жизни. Это и есть возвышенное чувство истории, возвышенный опыт истории. Ничего, как вы догадываетесь, приятного в этом опыте нет, но возвышенное — это и не прекрасно. Это не про приятно. Да, возвышенное — это про охранение, повторюсь ещё раз, и соответственно про то, как люди пытаются с этим справиться. Потому что с этого момента начинается опьянение историей. С этого момента вы начинаете прочувствовать себя знаком с людьми, имена будут и 100 лет спустя их смерти. Вы не просто начинаете осознавать себя свидетелем чего-то, про что будут писать, вы начинаете переосмысливать то, кем вы являетесь. А вот это чувство возвышенного исторического опыта, например, для Беркли и для Канта, которые напишут свои работы первые про это до французской революции, будет связано прежде всего с французской революцией. Если для Беркли это абсолютный ужас, да, то есть для него это абсолютное историческое зло, то можно себе представить, то Кант переживает вот это подм душевных сил. Он на это смотрит, то что он становится свидетелем, может быть, самого значимого исторического события за всю историю человечества, как он себе представляет. Позднее у Гегеля появится такая вялая пародия на это, когда он Наполеона увидит, въезжающим на белом коне в Ену. Идёт Гегель по улице, в кармане на белом коне. Как это осознавать, что человек, который стоит перед тобой, сидит, восседает здесь и сейчас в действительности, воплощает собой весь современный мир. Да, там правит всем миром. Позднее из-за неточной цитаты Герцена это стали говорить, что он увидел абсолютный дух на белом коне. Но нет, всё-таки Наполеона абсолютным духом не называл. Хотя мировая душа там тоже, в общем, довольно близко. То есть вот это вот разное отношение к французской революции, где один говорил, что это зло, а второй понимал, что это вот такой большой исторический процесс. То есть мы не говорим сейчас о том, на самом деле, какими были эти события, хорошими, плохими, с какими последствиями — это неважно. Важно только то, как вот ты видишь это сейчас в моменте. Именно так, именно так. Потому что это что-то, что выламывает из твоих схем интерпретации, что-то, что заставит тебя переосмыслить, где ты живёшь, кто ты есть, возможно, сделать жизненный выбор, который изменит не только твою жизнь, но и жизнь поколений твоих детей. То есть это что-то, что требует радикального пересмотра мира. Да, в совершенно ином масштабе событийности. И поэтому, например, позднее уже потом будет довольно большая битва за то, как вернуть это приручение возвышенного исторического опыта. Возвращение его повествования. Вот о Наполеоне, например, есть замечательный сюжет, когда он в 1808 году диктует своему министру полиции, как следует описывать события французской революции. Это очень интересно, когда мы смотрим, как он это пытается приручить возвышенный опыт. Говорит несколько вещей: первое, ни в коем случае нельзя демонизировать королей, нельзя демонизировать анхенжи. Это были правители, которые, надо отдать им должное, пытались удержать порядок, наделали массу ошибок и поплатились за них. А второе, нельзя восхищаться революционерами. Там не было никаких революционеров, была народная стихия, вырвавшаяся из-под контроля. Значит, никто бы не справился с этим, да, это лавина, говорит он. И третье — допускать реакционно, потому что про прогресс. Отсюда появляется идея двух стихий, которая потом будет часто попадаться в историческом описании, что вот есть Франция как корабль, которая поставила парус по ветру прогресса. Формула Вальтера Беньямина: прогресс — это ветер, который дует из прошлого в будущее. Но ветер оказался настолько сильным, что парус слетел к Чёртову жратву друг друга. Вот приходит Наполеон, который, во-первых, возвращает социальный порядок и усмиряет стихию вот этого зла внутри людей, возвращает социальный порядок, приводит к порядку команду, с другой стороны, снова ставит парус прогресса. То теперь надо идти, гал, есть не надо пытаться идти прямо по ветру, пронесёт сразу. То есть, слава богу, не утонули, вырвется и вернёт нас всех в состояние тотальной гражданской войны. Такой базовый госов страх, ужас перед своим соседом, который сегодня тебе улыбается, но завтра, если рухнет социальный порядок, случится революция, гражданская война, он будет первым, кто перережет тебе глотку. Да, а второе — это страх истории, который вообще-то неведом человеку до эпохи Просвещения. То есть страх истории, самая раона э установ именно она вдруг создаёт ощущение вот этого ужаса перед историческими событиями. Я увлёкся, да. Простите. А вот в том описании, которое Наполеон диктовал, я не спрашиваю, насколько это близко к истине, но кажется, будто он просто, ну, как бы формулирования, и не для истории, а просто формулировать, как бы он хотел, чтобы это выглядело. В итоге, ну, то есть это тоже возвышенный исторический опыт, который просто был диктован одним человеком. Это буквально попытка приручить возвышенный опыт в нарративе, потому что, как вы понимаете, возвышенный исторический опыт — это что-то, что вообще не просто не про нарратив, а что-то, что его взрывает, что-то, что больше не укладывается ни в какие привычные повествования. Да, и поэтому, ну, я специально сначала про Наполеона спросила, потому что потом дальше получается, что когда нам, на не знаю, третий день после начала войны, говорят, что нельзя называть слово «войну» войной и объясняют, что на самом деле происходит, и вот это вот всё начинает укладывать российская пропаганда, российские власти в с одной стороны в пропаганду, с другой стороны в статьи Уголовного кодекса — это тоже попытка ус... Да, да, да, да, это попытка справиться с этим. Но я напомню на секундочку, что так же, как огромное количество людей, проснувшись 24 февраля, осознали, что они столкнулись с историческим событием бесчеловечного масштаба и начали заново, значит, свою приручить, вернуть на место в состоянии вот этого чувства жути, которое мы с вами описывали и разбирали в одной из предыдущих программ, точно так же и другая группа людей проснулась вот с тем самым восторженным сакральным трепетом, почувствовав, что они стали наконец-то свидетелями чего-то такого, что их дети будут завидовать, что они пережили это. На СРО языке возвышенный исторический опыт, там была фраза, над которой все смеялись: «Путин пустил ветер истории в наши паруса». Да, Наполеон не так себе, конечно, представлял ветер истории и пустил его конкретно. Да, один человек. То есть, но это тоже способ справиться с возвышенным историческим опытом. То есть мы при этом понимаем, что вот это кантовское разное, но при этом оно всегда будет чем-то, что кладёт предел нашим способам непроблематичного, рутинного, нормального восприятия этого мира. Мы с вами в одной из программ говорили о разнице рутинизации и нормализации. Когда происходит что-то экстраординарное, сначала рутинизуются, потому что продолжаются повседневные действия: надо чистить зубы, надо кормить детей, а находить удобные новые нативы, которые позволят с этим примириться. Вот возвышенный исторический опыт — это что-то, что сопротивляется нормализации. Это да, что-то, что делает её на какое-то время невозможной. Социолог повседневности придёт и скажет: «Ну, на какое-то время, да, но потом повседневность всё равно вернётся». Нельзя жить в состоянии возвышенного. Ну вот, например, там литературный сюжет *Хоббита*, значит, которого позвал Гендальф, у которого была вся жизнь как прекрасная, значит, он жил там, всё у него было хорошо, потом он пошёл в поход с гномами, и всё пошло по одному месту, в общем, прямо скажем. Но в итоге это всё за него закончилось хорошо. Но просто всё, что вы описываете, это получается такая, как бы спокойная жизнь, потом что-то происходит, и вся жизнь меняется. И всё равно есть ощущение, что за этим в итоге, ну вот в конце страданий, я не знаю, или на каком-то этапе должно стоять что-то хорошее, но оно как-то не проглядывается в том, что вы говорите. Возвышенный исторический опыт ничего вам не обещает, он вам ничего не гарантирует. Он про сейчас. И поэтому он становится настолько важным для историков уже в конце, начале XXI века. Собственно, откуда и вырастает эта книга Франклина Рудольфа Анкера Смита с названием *Возвышенный исторический опыт*. Тут нужно сделать короткое отступление, потому что он очень влиятельный, важный для не только для историков, для социологов, для философов. Он-то как раз из прямо противоположного лагеря пришёл. Он пришёл из исследования нарративов. Он написал несколько замечательных работ о нарративной логике в историческом исследовании. Потому что, ну, социологу, например, понятно более-менее, что он не может контактировать с своим объектом напрямую. Ему этот объект надо концептуализировать, закодировать в категориях своего описания этого мира, для того чтобы построить нарратив, который называется объяснением некоего феномена через другой феномен. Но при этом наш объект от нас не удалён во времени. То есть человек, который изучает, например, протестное движение здесь и сейчас или механизмы солидаризма, по сути, он заключён, как говорит Анкер Смит, вслед за Ницше, в тюрьму своего языка. Да, очень комфортабельную тюрьму. Да, тюрьму, которую можно исследовать средствами литературной критики, средствами семиотики, которую можно вот и так препарировать, и так препарировать, как историки пишут свои трактаты. Как устроен механизм обоснования вывода. Но это всё равно про язык, а не про опыт. И он ставит в какой-то момент, сделав огромное количество исследований языка историков, восстаёт против всего, чему он служит. Говорит: «Я хочу вернуть понятие опыта в историю, потому что вот этот исторический опыт и есть то, что даёт истории право на существование как дисциплине. То есть не тексты, в которых сохранились описания событий, а именно переживание исторического опыта». Ну и дальше борьба с Кантом. Принцип с Кантом, принте, да, та категория, которая ломает остальные категории. То есть он начинает вот эту попытку создания истории как феноменологии исторического опыта. Но что это означает? Это означает, что каждое историческое событие, свидетелем которого вы становитесь, которое проживаете как историческое, оно оказывается либо, как пишет Анкер Смит, протуберанцем прошлого в настоящем, либо наоборот — восприятием сегодняшнего дня из перспективы конца XX века. То есть, по сути, проран будущее, настоящее. Исторический опыт как предчувствие, исторический опыт как травма. В одном случае, например, вы живёте в ситуации, где вся семейная история вам транслирует рассказы о репрессиях тридцать седьмого года, и вы знаете историю своей страны хорошо через историю своей семьи, и память семейная передаёт этот нарратив о том, что рано или поздно в твою дверь люди в погонах, рано или поздно это всё равно, всё вернётся. И ГУЛАГ никогда по-настоящему не закончится, он лишь на время может выйти из нашей жизни. Но вот это вечное возвращение репрессий тоталитарного режима, оно заложено в некоторых семейных историях. Но это никак не бьётся с опытом жизни. Вся биография, весь опыт восприятия окружающей действительности говорит, что ну нет, ну нет такой цикличности. В тот момент вы начинаете обнаруживать всё больше и больше знаков в своей повседневной жизни, что оно возвращается, что рассказы бабушек и дедушек куда актуальнее в современном XXI веке в вашей новой, уже совершенно иной повседневности, чем ваш собственный опыт пятнадцатилетней давности. То есть, по сути, в этот момент прошлое отбрасывает очень длинную тень в ваше настоящее, и вы начинаете, по сути, структурировать восприятие теку аналогии с событиями прошлыми. Либо наоборот. Да, поэтому для кого-то 2021 год — это 1937 год, а для кого-то 2025 год — это 1945. То есть для них этот момент становится предвкушением великих исторических преобразований, свидетелями которых они станут. Чувство жути. Я как-то сейчас немножко не уверена, что она называется так, как мы её назвали, потому что чувство жути сильно связано с этим. Это хороший вопрос, это на самом деле очень хороший исследовательский вопрос. Как связано чувство жути, чувство возвышенного? Первая половина программы. Чувство жути, конечно, нагнали сильно. Дорогие подписчики *Живого гвоздя*, вы знаете, что решением властей России YouTube замедлился, и мы понимаем, что для многих из вас это большое неудобство. Поэтому мы приняли решение уже не в порядке эксперимента, а на самом деле все прямые трансляции параллельно вести в Telegram канале *Живой гвоздь*. Если вы не подписаны ещё на *Живой гвоздь* и не знаете, что существует такой Telegram канал, что бывает, вы в строчке, где Telegram каналы в приложении, набираете *Живой гвоздь* и подписываетесь на него. И вам будет приходить уведомление, что началась новая трансляция, именно прямая трансляция, живой эфир. А у вас сверху, когда вы зайдёте в Telegram канал, будет окно, в котором будет написано «открыть». Вы открываете и получаете и видео прямой трансляции, и звук. В чём плюс? Вы можете свернуть видео и оставить это как радио. Ну, как радио *Эха Москвы*. И только звук, и вы сможете слушать прямые трансляции *Живого гвоздя* через телеканал и Telegram канал. Точнее, *Живой гвоздь* уже Telegram теле заменяют друг друга. Но если вы захотите принять участие в чате или задать вопрос, вам нужно будет перейти на YouTube канал *Живой гвоздь*, именно в том чате задавать вопросы, а затем вернуться на свой звук и слушать ответ. Мы вас не бросаем, не бросайте и вы нас! Нас, то есть, то, как вы сейчас описывали разницу отношения к историческим событиям, это как раз есть чувство жути, которое у меня возникает, когда я нахожусь в России. Потому что я реально понимаю, что одна часть общества находится в тридцать седьмом году, вторая — в сорок пятом, ну и большая часть общества находится ещё где-то, неизвестно где. Но тот факт, что часть общества не понимает про тридцать седьмой, вообще, это, конечно, наводит действительное чувство жути. И вот тут как раз приходят социологи, потому что, как вы понимаете, всё, что мы описывали до этого про возвышенный исторический опыт, это прерогатива философов и историков, причём именно философов истории. А социологу с этим очень сложно примириться, потому что в смысле нарративы — нафиг, как нафиг? Мы же как бы про то, как люди видят этот мир. Мы же из допущения исходим всегда, что те очки, через которые они смотрят на этот мир, сформированы благодаря совместному существованию людей, коллективному опыту. Да, по сути, коллективно человеческое общежитие наделило вас очками, представлениями о добре и зле. И поэтому, да, когда происходят экстраординарные события, происходит слом, но благодаря этому вы и узнаёте, какие очки вы носили, и дальше их снова склеивают. А у Канта это чувство возвышенного оказывается универсальным свойством человеческой природы, но не универсально для части людей. Это три семи, для части людей это предчувствие сорок пятого. И поэтому мы как раз и испытываем чувство жути не из-за того, что столкнулись с чем-то, что сложно уместить в голову, а из-за того, что люди, которых мы считали своими друзьями, соседями, коллегами, прекрасно это в голову уместили. Чувство жути — такой социологический ответ на кантовские рассуждения о возвышенном. Нихрена не универсально, всё равно в конечном итоге это вопрос вашей идентичности, принадлежности к определённой группе и тех коллективных представлений, которые вы с этой группой разделяете. И в целом вот этот возвышенный исторический опыт — это вызов, и социологи в разные периоды отвечали на него по-разному. Первый ответ — это то, что как раз человек, очень похожий на траектории, только на 80 лет раньше. Это как раз человек, который тоже начинает, как неокантианство, как они различают исторические события. То есть всё в общем вполне в такой нормальной социологической традиции: мы изучаем коллективные представления людей об истории. А потом в какой-то момент, в районе 1908 года, то есть ещё до Первой мировой войны, которую, в общем, Зибель практически не пережил, а у него происходит этот перелом. Он идёт вот в эту сторону такой философии жизни и пишет работу о судьбе, где вводит представление о трёх горизонтах времени. Что есть некоторое время повседневных событий? Могли бы включить программу Вахштайна с Воробьёвой, могли бы пойти играть в карты и пить водку, могли бы ещё чем-нибудь заняться. То есть повседневные события в этом смысле не предопределены, они случайны. Можно было пойти сюда, можно было пойти туда, можно было пойти по этой улице, можно было пойти по этой улице. Есть время исторических событий, которые вне власти человеческого разума и вне власти человека. То есть как раз исторические события у Зиля позднего в 1888 году уже оказываются таким неумолимым роком, они оказываются чем-то там. Но именно между историей и повседневностью лежит время вашей биографии. У судьбы, у биографии нет своего собственного материала, вы её сплетаете из истории и повседневности. Отсюда очень важное понятие апроприации. Если вы пошли по этой улице, а не по этой, повседневное событие, встретили человека, повседневное событие, которого давно не видели, пригласил познакомиться со своими друзьями, вы на следующий день приняли приглашение, познакомились с друзьями, друзья вам понравились, через неделю вы обнаружили себя частью политической партии, через две недели вышли на митинг, через три вас арестовали. То есть тогда мы говорим, что вот это повседневное событие оказалось судьбоносным. Да, оно оказалось решающим, определяющим. И вот из череды повседневных событий апроприация. В общем, в других обстоятельствах остались где-то на уровне незначимого, но есть историческая апроприация, когда доброволец говорит: «Да, это моя война». Он делает историческое событие частью своей биографической цепочки. Когда мы говорим: «Это не просто не моя война, это то, чего не должно было произойти, то есть не имеет права на существование. Если это не моя война, то это больше не моя страна», — и эмигрируют. Это тоже апроприация события. Да, и Навальный, апроприация идёт в двух направлениях: мы присваиваем исторические события, делая их частью своей биографии, но наша биография, которая тоже порождает события жизненных выборов, может апроприировать историю. Да, поэтому страдание юного Вертера — это уже не факт биографии, это порождает волну самоубийств. И поэтому жизненный выбор Навального — это больше не просто элемент его биографии, это часть истории страны. Ну и дальше вопрос: а есть ли такая же вторая апроприация? Какое-то историческое событие делаем жизненным выбором, а потом он становится частью истории. Зиммель называет это бессмертием. Но есть и вторая. Да, начало XX века социологи оперировали такими понятиями, как судьба, бесконечное. Вопрос: может ли судьба человека, биография его жизненные выборы раствориться наоборот в повседневности? Да, это то, что позднее экзистенциалисты будут описывать как неподлинность повседневного бытия. Да, то есть твои жизненные выборы ничем не отличаются друг от друга, и никакой связки, последовательности стиля, сказал бы Зиль, экзистенциального стиля не образуют. Это всё равно что мог бы пойти сюда или сюда, за огурцами или за помидорами. То есть у нас оказывается три горизонта времени, из которых средний горизонт вашей жизни слетает из того, что вы поднимаете из повседневности и того, что пускаете из истории. Это такой был социологический ответ про то, что да, возвышенный исторический опыт — да, заложники исторических событий, но за вами остаётся последнее слово: присваивать их или нет. Можете их не присваивать. Один из моих писателей, Баламов, говорил: «Я был в Париже, но провёл этот месяц с девушкой на чердаке, не присвоил исторического события». Бывает. А, да, и в этом же у Зиммеля будет разница между смертью и гибелью. Доброволец не может погибнуть на войне, он умрёт на войне, потому что смерть — это событие прекращения жизни, которое связано с цепочкой предшествующих жизненных выборов. Он делает этот выбор, и поэтому он не может умереть, погибнуть на чужой войне. Потому что для добровольца это уже его война. Он уже её апроприировал. Мирный житель, который в этот момент пытался просто спасти свою семью и попал под ракетный обстрел, да, или израильские заложники — это именно гибель. Это тот случай, когда мы говорим о том, что эти люди своими действиями, да, никак. Кстати, это немножко возвращает нас к разнице между эпосом и трагедией. Но так или иначе, вот у нас появляется вот это базовое различие. Да, то есть погибнуть или умереть зависит от предшествующей жизни. Разница здесь внешнее по отношению к твоим жизненным выборам. Событие историческое может прекратить твою жизнь, но оно либо связано с твоими предшествующими экзистенциальными решениями, либо нет. Это один способ ответа на вопрос: да, возвышенный исторический опыт — да, исторические события, которые, значит, как метеорит, пролетают твоего дома. Да, ты оказываешься в ситуации героя фильма *Шоу Трумана*, который в тот момент обнаруживает, что весь его мир — это в действительности декорации постановки шоу, и вот декорации падают, и он выбирается во внешний мир, по существованию которого не подозревал. А, но при этом всё равно решение выбираться или не выбираться принимаешь ты сам. А социологи релятивизм ставят акцент. Секундочку. Разве в *Шоу Трумана*, если мы это берём как пример, ну или там метеорит, который пробил крышу, разве у человека есть выбор в этот момент выходить или не выходить? Уже не может свой прежний мир. У него есть выбор этого не заметить. Есть куча литературных произведений, которые как раз построены на том, что, ну, типа Нео мог взять другую таблетку. А у вас в конечном итоге это всё равно выбор между таблетками. Вы можете нормализовать. Да, социологи повседневности всегда прибегут вам на помощь и скажут: нормализуйте, это всё нормально. Возвышенный опыт лишает не надолго, не навсегда. Да, в конечном итоге вот у Стругацких в этом *Пришествии инопланетян* есть любопытные произведения, которые описываются, ну вот в духе такого дневника, где человек, значит, начинает с того, что высаживаются инопланетяне, с ма не. Это буквально *Прист ВС наше Марси*, *Пришествие*, сказал Второе пришествие, *Нашествие Марсин*, конечно. То есть он описывает, как там страшный грохот, какие-то чудовищные корабли военные высаживаются на газоне перед домом, космические какие-то всполохи, красного света, взрывы. Он не может это обсчитать. Но дальше он описывает день за днём, как он становится идеальным коллаборационистом. И в годовщину уже описывает то событие, сонно в других категориях: «Я помню ту ночь, когда над моим домом символом спокойствия мира и обещанием стабильности прошли космические корабли». Сразу видно, что не наши. А вот это как раз результат нормализации. То есть у вас всегда есть вторая таблетка. Хорошо, говорит нам Зиммель. Да, поэтому возвышенный исторический опыт, социологи такие: да-да-да, мы, мы, у нас есть ответ на этот вопрос. Это один из двух. Ладно, во-первых, хочу сказать, что у меня очень много вопросов появилось про смерть и гибель, но это отдельно. Иначе мы сейчас в неё уйдём. Во-вторых, я очень хочу сделать на эту тему отдельную программу. А во-вторых, если мы вернёмся к людям, которые принимают исторический опыт и принимают какое-то решение, то получается, что до этого исторического возвышенного опыта у них была одна идентичность, а после того, как они приняли этот исторический опыт и приняли какое-то решение, идентичность их поменялась или нет? Да, это очень важный момент, потому что между возвышенным историческим опытом и травмой у Фрейда, то что травма — это то, что вашу идентичность трансформирует. И поэтому, говорит, у Фрейда есть метафора про сжигание: шрам остаётся. И вот также исторические события прожигают вашу жизнь, оставляют на ней шрам. И именно поэтому из-за того, что меняется идентичность, меняется, переосбирается представление о том, кто ты. Это связано с тем, с чем ты солидарен, с анонимным автором интернет-мема о том, что проблема не в том, что слишком много людей за последние три года долбануло, обратно, в общем, как-то так и есть. Потому что с этого момента начинается опьянение историей, начинается пересмотр своей биографии в историческом контексте, начинается пересборка собственной идентичности. Вы не сможете вернуться к повседневности по-настоящему. То есть призраки прошлого останутся с вами, и уже теперь в нарратива будут транслироваться вашим детям. То есть если мы ещё откатим назад и посмотрим на историю страны чуть-чуть подальше, ну чем сейчас имеется в виду, получается, что люди, которые, условно говоря, когда закончился Советский Союз и когда началась новая страна, было много вещей, которые просто, ну, как бы забыли. Хотя на самом деле для того, чтобы стать, чтобы помирить две идентичности свои предыдущую и нынешнюю, нужно было прожить и принять, и узнать, и понять, не знаю, и как-то встроить всё происходящее в своё какое-то новое идентичность. Ну, как видите, не забылись. Да, вот у Анкер Смита, напомню, четыре типа забвения. Когда мы забываем, что значит забыть? Какой-то исторический опыт. Есть простое забвение в повседневности, такая когнитивная разгрузка. Вещи, которые больше не релевантны, вы забываете, они вам уже не нужны. Это то, что изучают психологи. Был любопытный спор между психологами-бихевиористами и психологами-гештальтистами на тему того, что вот, например, официант у вас принял заказ, принёс еду, а вы расплатились по счёту, и он забыл. Или наоборот, запомнил лучше то, что вы заказывали. Хери скажут, что он лучше запомнил, потому что он несколько раз теперь прочитал ваш заказ, когда вы заказывали, когда он транслировал, когда внёс еду и ещё раз, когда получил за это деньги. А гештальтисты говорят: нет, в тот момент, когда он получил деньги, он забыл. Гештальт закрылся, помнить уже необязательно. То есть это прошлое, оно уже как бы нерелевантно текущему моменту. Это один тип забвения повседневный. Второй тип забвения — это забвение как пересмотр. Да, то есть это, ну, му, теперь кому или да, то есть, а это что за фигня такая была? Не гнуться при детях, без купюр, не бросать мусор мимо урн. Какой хипстерский урбанизм в Москве 2012 года? Господи, кому сейчас это всё? Куда это? Зачем? Это что было вообще? Мы уже не помним про эти споры о природе городского пространства, чем должен быть город в Москве. Вот это всё настолько стало нерелевантно, как табличке деятелей Советской армии на Тверской, прибитой по-прежнему к домам, но никто толком не знает, кто эти люди и почему эти таблички всё ещё здесь висят. Выглядят они как совершенно избыточные декоративные элементы, точно ни к чему не отсылают. Это второй тип забвения — забвение как пересмотр. Третий тип забвения — это фрейдовское забвение, забвение как вытеснение. 20 лет после окончания Второй мировой войны в Германии не принято говорить о Холокосте. А и для жертв, и для палачей 20 лет Холокост остаётся фигурой умолчания. А, но не только в Германии, где вообще тема Холокоста вернётся после шестидесятых годов, процесс Эйхмана и так далее. И в этот момент взорвётся всё, но 20 лет ни жертвы, ни палачи не хотят об этом вспоминать, потому что травмирующий очень. Это фрейдовское объяснение, да, и Анкер Смит его принимает, да, потому что это как раз то, что если сейчас начать об этом говорить и вспоминать, рухнет всё, что есть вокруг тебя. Мир просто обсыпется, и обнаружится вот эта грубая кладка. А мы слишком долго эту штукатурку сюда заново пытались нанести. И вот это как раз идея, но это даже не только в Германии. Это много где. Да, в Израиле, например, в пятидесятых годах Холокост — абсолютная фигура умолчания. Есть масса интересных литературных произведений, которые это описывают. Вот моё любимое — это Кат Шави Гигор, израильская писательница-драматург, где описывает, как растёт ребёнок в семье родителей, потерявших свои семьи в Холокосте, и они ничего не говорят о своей жизни до репатриации в Израиле. То есть всё, что с ними произошло в Европе, остаётся такой фигурой умолчания. Да, но даёт о себе знать, оно прорывается в тех словах, которые мать говорит дочери. Эти знаки, оно всё равно даёт о себе знать. Поэтому, собственно, вытеснение не означает исключение, исчезновение. Факт, что это вытеснено, не значит, что оно куда-то ушло. Оно осталось, и в какой-то момент всё равно вернётся. А вот четвёртый тип как раз, который Анкер Смит пытается поднять на пятиста и больше всего связать с возвышенным историческим опытом, это как раз некая форма отречения, как отказ от идентичности. Да, вот мой прадед, говоривший в совершенстве на шести языках, писавший стихи на немецком, редактировавший немецкий, единственным достойным, значит, языком, запретил его использование, вернувшись в концлагерь. То есть не дай бог он бы услышал, что кто-то говорит на немецком, при том что для него это, в общем, очень важный язык в его жизни. И вот такого рода отказ от языка, отказ от идентичности, отказ от части своей биографии, отказ от гражданства, отказ от многого ещё — вот это как раз то, что Анкер Смит связывает с возвышенным историческим опытом как четвёртой фазы забвения. И как мы здесь оказались? Я не помню, я помню, как мы здесь оказались. И вот это мы с травмы начали, собственно, и с потери или не потери идентичности. Вот про этот четвёртый вид забвения. То есть, как? Ну окей, ты же не можешь просто взять и отказаться от, условно говоря, люди, которые сейчас уехали из России. Они же не могут просто здесь сказать: «Мы больше не россияне». Ну, то есть они могут, конечно, сказать что угодно и от гражданства отказаться и сделать что угодно, но всё равно они не перестанут быть людьми, которые выросли в России или в Советском Союзе. Да, и начинается мучительный процесс пересборки того, что такое вообще идентичность. Начинается новый конфликт, который нас ждёт в перспективе нескольких лет — это детей отцов и детей в эмиграции. Это то, что уже назревает очень сильно, то, что там все социологи показывают на своих исследованиях, что уже за эти три года поколенская пропасть образовывается в уехавших семьях. И это, в общем, такая тоже очень большая тема про то, какую роль поколенские сдвиги играют в трансляции эпизодов возвышенного исторического опыта и как сам этот возвышенный исторический опыт создаёт поколенские разрывы. Да, одна из теорий, там, Мариана Хирш, которая называется теория постпамяти, она как раз пытается показать, почему в сообществах, где дети эмоционально и коммуникативно больше связаны с бабушками и дедушками, чем с собственными родителями, события жизни через поколение, те, которые бабушки и дедушки передают в рассказах, оказываются своего рода лекалами, по которым они начинают строить свою жизнь. То есть, по сути, ничего не зная про жизнь родителей, родители будут, видимо, их детям рассказывать, но по сути вот эта полеская хорда через поколение создаёт ощущение исторической дальнозоркости, когда события середины столетия в стране, воспитанной бабушками, оказываются живее в памяти современников сегодня, чем события семидесятых-восьмидесятых годов. Да, потому что там родители же скучны, а вот у бабушки и дедушки был возвышенный исторический опыт. Поэтому Гоголь в тридцать седьмом году и сталинском терроре никуда не ушли. Ну и так далее. И вот, собственно, попытка социологов ответить на вопрос, как происходит последующая поколения трансляция этих эпизодов возвышенного исторического опыта и как эти эпизоды потом создают новые нарративы и создают поколенские идентичности. А это уже такое вполне себе приземление от Канта и Беркса с их охреневает упорядочивать и структурировать, например, конфликты поколений. Не просто собака ходит. Я прошу прощения, собака у собаки в этот момент тоже возвышенный, но не исторический опыт. Собака постоянно возвышенный исторический опыт, когда она слушает наши программы. Ещё мне кажется, у нас скоро заканчивается время. Я хотела спросить: существует ли какое-то, ну, условно говоря, учёные, которые это всё описывали, не знаю, обсуждали, изучали, договорились между собой, как проживать возвышенный исторический опыт так, чтобы не сломать людям хребет и заодно стране тоже не сломать хребет? Ну, как бы у вас там в естественных науках все со всеми договариваются и приходят к научному консенсусу. В социальных науках — это война всех против всех. Историки, которые открывают для себя, ну, скорее, историософы, которые открывают для себя вот эту идею исторического опыта, либо как протуберанцев из прошлого, руины Сталина. Тоже есть отличный текст про руины, вот Уно и вотча ГД дворца. Мы начинаем понимать, как прошлое продолжает влиять на настоящее, или наоборот, в качестве протуберанцев из будущего, как предчувствие Гражданской войны, как предчувствие революции, как предчувствие третьей мировой в духе такого ведения Сары Конор. Тоже исторический опыт. Да, вот с одной стороны есть те, кто пытаются показать, как это чувство возвышенного разрушает всякие социальные ожидания, в смысле без нарративов, в смысле без коллективных представлений. А откуда чувство жути тогда? А почему у всех по-разному этот трепет возвышенный срабатывает? Или вот тезис, который мы не успели до раскрыть, это работа Альфреда Шу, *Символ реальности общества*, где он показывает, что это чувство возвышенного возникает тоже благодаря социальным механизмам символизации. Символами обмениваемся, это символы создают внутри нашего социального повседневного мира, они трансцендентного возвышенного исторического опыта. Он не сам по себе, пролак, это мы при помощи символов её продаём. Да, то есть у нас вот эти споры, они продолжаются, и психологи зацикленности на травмах могут вступать в альянс с историками, которые закнабим, социологами, которые как релятивисты, такие: «Да, там всё с нарративами, там нарративы, коллективные представления, социальные группы». Поэтому никакого консенсуса тут не будет. Напротив, новые объяснения, новые исследования будут рождаться из этого противостояния. Я смотрю, социологи вообще люди не очень. Да, любят, там вот это много анекдотов. Хорошо, ладно. Ну, я хочу сказать, что тем, кто чего-то не понял сегодня, хотела ещё в прошлой программе это сказать, но скажу в этой: вы можете другие выпуски программы *Понятия* про чувство жути, про повседневность, про нарративы. Всё это уже было более полно, и в общем, можете пойти посмотреть, если вы ещё не смотрели. И там ещё прилагается список литературы, кстати говоря. Надеюсь, что нам с вами сказали, что пропал список литературы. По справедливости, и мы его снова вывесили. Всё нормально. Да, всё так, мы его вывесили. Не знаю, куда он сейчас. Так бывает. Хотя у нас ещё до этого такого не было, чтобы список литературы пропал. Не знаю. Вот надеюсь, что к этому выпуску в списке литературы будет тот текст, который я читала перед тем, как готовилась, потому что он, мне кажется, это вообще, ну, стоит почитать. Мне даже показалось, что, наверное, стоит всю книгу прочитать, не только ту главу, которую вы мне прислали. Вот, но да, да, легко меня купить на книге. Будем так и запишем. Просветительский пафос работает как минимум на одного человека. Да, я не отрицаю. Я даже не буду пытаться отрицать. Это всё так и есть. Вот, СБО, боо, это была программа *Понятия* Виктора Вахштайна и Ирины Воробьёвой. Увидимся через две недели. Вот какую тему возьмём? Пока не знаю, но про смерть и гибель однажды поговорим. У меня просто масса вопросов возникла, не то чтобы самых приятных, но, как всегда, это, знаете, как сейчас, извините, прямо буквально полминуты. Как вы рассказываете, что вот там случайная встреча, куда-то пошёл, встретил друга, которого не видел, и вот ты уже в политической партии, уже на протесте, уже арестован. А я-то думала, что после этой встречи ты попал в компанию друзей, встретил свою судьбу, вышла замуж, женился, родились дети, и всё, вас хорошо. Но нет. У нас в примере обязательно будет политическая партия, протест и арест. Ну, как бы вот это всё, что вы должны знать. При том, что это пример из моей книжки про сообщество судьбы. А у Зиммеля как раз про то, что встретил свою судьбу, женился, и вот детей нарожала. То есть это одно и то же, но мы в пример привели, значит, какие времена, такие примеры. Что ска? У, хорошо. Ладно, всё, спасибо большое. Пока! Пока-пока!
Залогинтесь, что бы оставить свой комментарий