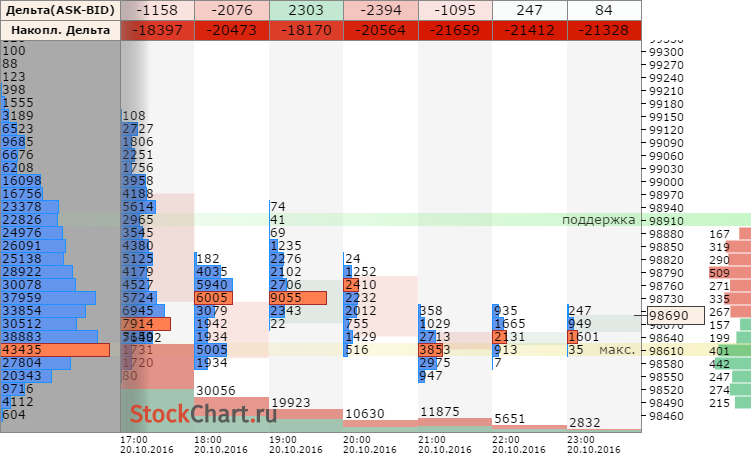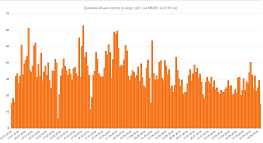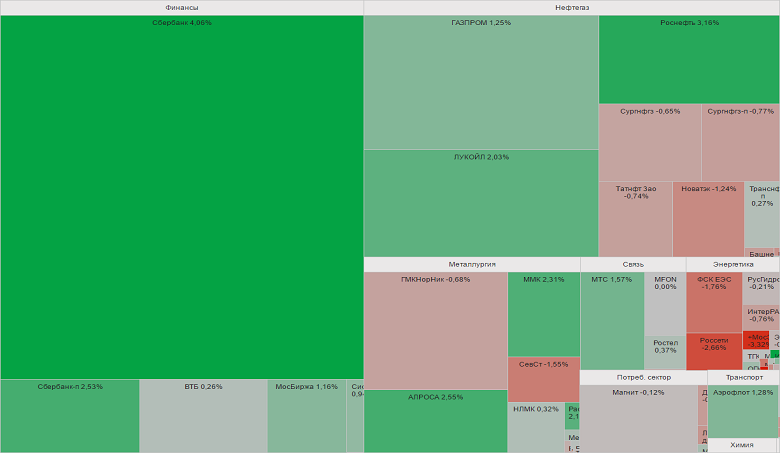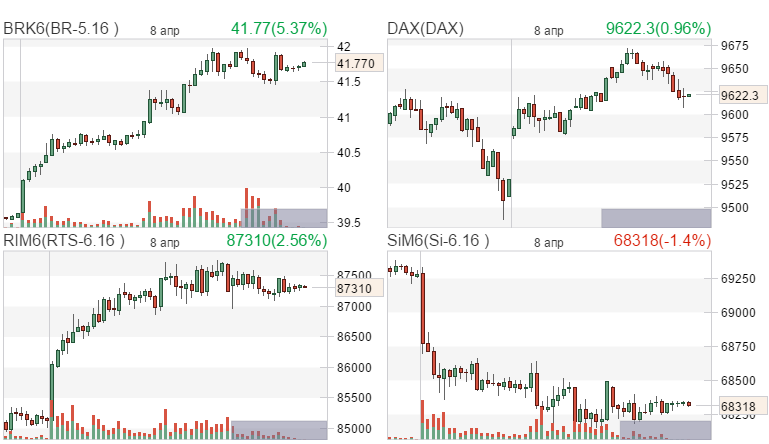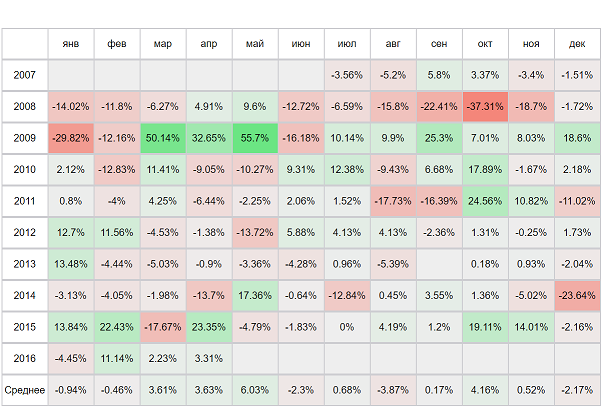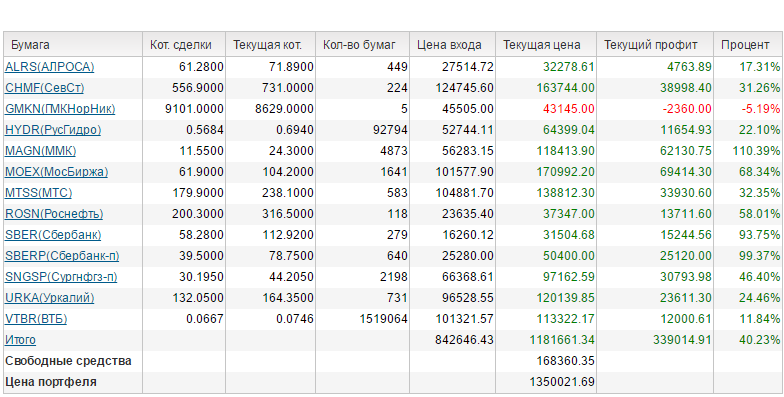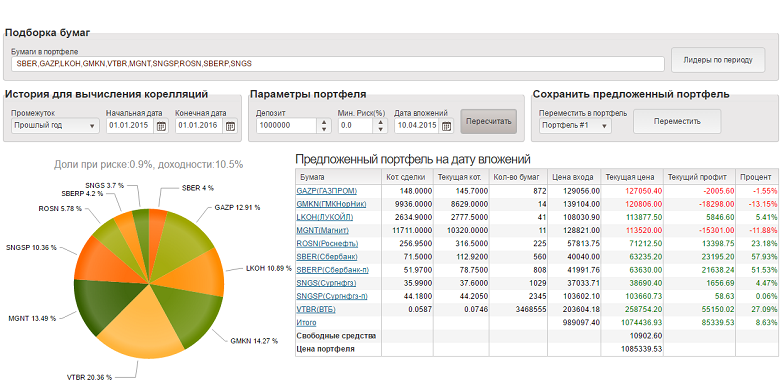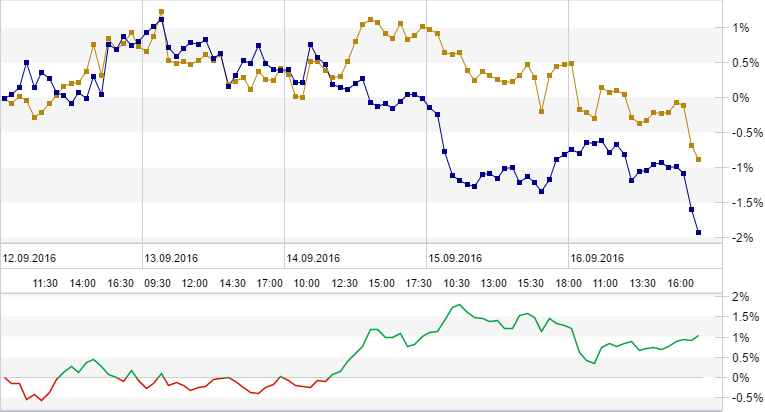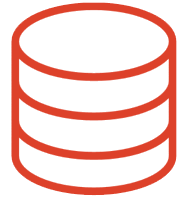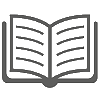|  |  | |||||||||||
 |
|
||||||||||||
 |  |  | |||||||||||||||
 |
|
||||||||||||||||

Техническая поддержка
ONLINE
 |  |  | |||||||||||||||||
 |
|
||||||||||||||||||
Современная эстетика и философия искусства. 6. Деррида и деконструкция
ruticker 02.03.2025 12:34:31 Текст распознан YouScriptor с канала Alexander Markov
распознано с видео на ютубе сервисом YouScriptor.com, читайте дальше по ссылке Современная эстетика и философия искусства. 6. Деррида и деконструкция
**Коллеги,** Последняя встреча по курсу *Современные концепции эстетики и теории искусства* будет посвящена деконструкции Жака Деррида и её значению для эстетики. Мы рассмотрим не только положения, выдвинутые этим философом, но и те интеллектуальные контексты, которые были образованы вокруг них и которые оказываются контекстом дискуссии в США и в других странах. Жак Деррида родился в Алжире в еврейской семье, был таким образом дважды маргинализирован. Он исходил из колонии, в которой Франция пыталась долгое время установить наиболее французские порядки. Из всех колоний именно в Алжире тщательнее всего была воспроизведена система образования, включавшая в себя не только средние, но и высшие учебные заведения. Франция смотрела на Алжир как на самый развитый регион Магриба, как на регион, наиболее связанный торговыми и промышленными отношениями, коммерческой коммуникацией, а значит, способный воспринять и весь тот институциональный цивилизационный дизайн, который предлагала Франция. Но этот же регион оказался под контролем коллаборационистского правительства Виши во время Второй мировой войны, и семья Деррида подвергалась дискриминации, как и все евреи Франции. Сам Деррида потом признавался в своей двойной маргинальности в работе, которую он назвал *Сефон*, соединив тем самым два слова: *коф* (латинская исповедь) с указанием на соответствующее суждение сочинений Августина и *конн* (обрезание), буквально круговой надрез, то есть принятие в состав иудейской общины и иудейского народа. Как и исповедь Августина, это говорит о телесном преобразовании. Причём телесное преобразование Августина, если вы помните, было связано с восприятием письма, с восприятием текста всем своим телом. Известные слова: *«Толе, возьми книгу и читай»* — это слова Августина. Он буквально воспринимал, впитывал всем своим телом слова священного писания и обратился от своей молодой жизни, полной бурных увлечений и заблуждений, к действительно глубокой созерцательной жизни, в которой сама жизнь проверяет текст. Сама жизнь оказывается приложением к пророчествам и судьбам писания. Деррида показывал, что не только текст может так менять жизнь, но и начальный акт посвящения, такое как принятие в иудейском акте, человек оказывается носителем на себе какого-то знака, знака избрания. Оказывается, эпизодом в такой новой книге избрания, в Книге жизни, и ставится вопрос о том, в какой мере он соответствует тому самому избранию. Деррида, пожалуй, стал наиболее известным в мире французским философом конца XX века. Это было предопределено несколькими факторами. Есть книга-статья Мишель Ламона под названием *Как стать самым известным французским философом в случае Жака Деррида*. Я эту статью перевёл на русский язык. Ламон, социолог, доказывает, что Деррида использовал несколько техник. Во-первых, он сделал предметом философии само медийное содержание, рассуждая о таких вещах, как письмо, грамматика, телесность, сообщение, дар. То есть все те вещи, с которыми мы сталкиваемся, когда работаем с медийным полем. Фактически, Деррида всякий раз перестраивал медийное поле и обеспечил в том числе себе и медийную известность. Те операции, которые он производил, оказались одновременно операциями поляризованной истории. Не так уж редка в истории философии, по сути дела, например, и те формы, в которых античная философия осуществлялась, такие как формы диалога, превращали некоторые установления истины в принципы вовлечения в диалог, вовлечения в установление истины как можно большего количества людей. Поэтому, хотя философия была доступна немногим, её социальный эффект мог быть весьма большим. Можно, например, вспомнить много таких примеров, скажем, наиболее известного русского мыслителя в мире — Николая Бердяева. Хотя его мысль — это мысль по преимуществу афористическая и философские интуиции, он стал весьма популярен даже среди мыслителей, которые специально русской культурой, православием или религиозной проблематикой не интересовались. Именно в силу того, что он превратил такое экзистенциальное высказывание, наблюдение, переживание в философию, что философия превратилась из просто способа судить о каких-то вещах в способ самого становления моментом этого суждения, самим быть перед судом истории, перед судом Бога, перед судом понятий. Насколько этот суд, когда работает, справедлив. Ламон также отметила и другие стороны популярности Бердяева. Во-первых, он очень хорошо вписался в академический контекст США, где целый ряд исследовательских программ, например, исследования кино, исследования театра или исследования современной культуры, нуждались в теоретическом обосновании, которое не могла предоставить старая внимательная критика. Она не подходила к произведениям нового типа, в которых очень важен носитель, очень важно высказывание, и не так важно прослеживать преобразование формы, когда для изучения кино важно, что показано и какой эффект производит, больше, чем, например, то, как разворачивается повествование или что значит в своей определённости какая-то деталь. Само показывание, сама эстетика в кино или в части современного искусства, или в культуре гораздо важнее актов семантизации и считывания этих знаков. Проблема риции многократно обсуждалась ещё в модернизме. То, что язык культуры понятен изнутри данной культуры, но не ясен вполне извне, например, это важная тема для многих романов Томаса Манна, где он описывает, как язык культуры возникает не сразу. Например, язык *Иосифа и его братьев* — это огромная библейская тема. Это история того, как возникает язык культурных условностей, включающий вежливость, дружбу, благоговение, уважение к родителям, уважение к детям и многие другие свойства культуры из некоторых актов самосознания. Что неожиданно осознал Авраам, когда приносил жертву, неожиданно Иаков осознал какие-то другие отношения. То есть такой эксперимент, потому как возникает сама семантизация. Или, например, в более популярной форме это представлено в новелле Германа Гессе *Игра в бисер*, где как раз главная коллизия в том, что Касталия обладает рядом языков культуры и рядом метаязыков, позволяющих описывать эти языки культуры. Но тем не менее для главного героя ясно, что данные языки не могут покрывать всю область реальности, что реальность сама переизобретает себя, так что языки не вполне схватывают это существование реальности. Реальность гораздо быстрее меняет себя, чем мы можем это осознать. Всё это приводит к тому, что, как раз в переводе Аверинцева, я его процитирую: *«Смысл значен, значит, и закреплён. Блуждания пира для знающего до конца прозрачен. На правилах покоится и говорят о нём, поддерживая определённую структуру воспроизводства суждений. Тогда как тот, для кого эти суждения непонятны, будет относиться к письму, как дальше говорится в стихотворении, к суеверным страхом. Книга будет пугать дикаря как некоторая инструкция, изменяющая мир непонятно какой властью, и скорее дикарь сожжёт книгу и вернётся к прежнему растворению в природе, не вынося тех вердиктов, которые книга выносит своим существованием».* Вот эти проблемы письма и его статуса как раз очень важны в теории Деррида, о чём мы дальше скажем. Также Ламон, говоря о американской популярности, для исследования литературы и искусства, смог поддерживать свой образ представителя французского интеллектуализма. Те, кто знали Деррида лично, таких немало и среди моих знакомых, хотя, к сожалению, я сам не застал и не смог пообщаться с этим мыслителем лично, о чём жалею. Но зато много с кем из великих я ещё общался. Деррида был склонен к несколько показному поведению, любил изящные костюмы, галстуки, в жестах был заведомо ярким и запоминающимся. То есть его поведение не вполне соответствовало поведению французского интеллектуала или французского аристократа, и тот, и другой обычно довольно сдержанные. Но зато воспринималось как специфически французское на экспорт, то есть как желание несколько нарушить имеющийся порядок, как желание показать значение жеста, которое может быть не менее важным, чем значение идеи. Показать, что, допустим, цвет галстука может не меньше обратить внимание на лекции, чем отвага. Ну и третий аспект — это сама форма сочинения Деррида, которые часто представляют собой комментарии. Комментарий к тем или иным, допустим, библейским эпизодам, Вавилонская башня, к модернистской литературе, скажем, к поэзии Валерия или подобных поэтов, комментарии к классике французской литературы, такой как Жорж, к ряду современных явлений философии. И это, конечно, комментаторская традиция. Она позволяет воспринять то, что делает Деррида, даже тем, кто не особенно склонен к философии, потому что это будут интерпретации, показывающие, как работает сам жанр комментария, как работает само пояснение, а значит, будет привлекательно для тех, кто, в частности, переживает о кризисе или общественной невостребованности филологических жанров. Да, нужно заметить, что, конечно, у Деррида сразу возникли противники. В частности, когда Деррида получал почётное звание, ряд исследователей, приверженцев аналитической философии, объединённые вокруг Академии Наук Лихтенштейна, как это ни смешно звучит, но в Европе много научных сообществ может размещаться и в маленьких городках. Это традиция, восходящая к итальянским академиям. И, как ни это странно, не звучит, написали письмо, в котором заявили о том, что Деррида не может рассматриваться как философ, что не производит никакого точного знания. То, что он делает, это, как они считают, фокусы, это такая демонстрация волшебных возможностей языка, но отнюдь не доказательная философская речь, ограничивающаяся определёнными терминами. Они указывают на то, что Деррида был востребован на западе не на философских факультетах, а на факультетах, изучающих культуру, искусство или социологию. И также указали на то, представьте себе, которого не цитируют физики, но которого любят, допустим, химики и биологи. Вряд ли этот физик мог бы претендовать на какое-то значение в физике. Этот подход звучит очень странно, потому что ясно, что физик вполне может обогащать и методы биологии или химии. Но эти философы исходили из определённого образа науки, что наука представляет собой прежде всего некоторое лабораторное производство, в котором экспертное знание в конечном счёте принадлежит лидерам лабораторий. Ты для того, чтобы так много заниматься черновой работой, разрабатываешь статью, становишься профессором и директором лаборатории и, соответственно, уже производишь это знание, а не только чернорабочий разработки этого знания. Поэтому данные философы попали в просак, фактически обнажив свои властные амбиции. Были у Деррида, конечно, противники среди аналитических философов, прежде всего Куайн. Были у него и критики среди других адептов суровой научности и такой вот аналитической философии, для которых он слишком даже мистик в чём-то, хотя сам Деррида никогда религиозным человеком не был и мистику рассматривал только как один из вариантов обращения с языком и далеко не привилегированный вариант. Например, среди таких критиков было два учёных: один из них американец, другой бельгиец — это Сокал и Брикман. Они издали книжку под названием *Интеллектуальные уловки*, в которой указали на то, что очень часто Деррида и другие представители французской теории используют в качестве метафор научные понятия, но при этом используют их, не зная реального контекста современной науки. Мы очень часто встречаемся с тем явлением, которое описали Сокал и Брикман в нашей журналистике, когда, допустим, понятие физики или генетики используется в качестве метафор для социальной жизни. Например, это *генетически нам свойственно* или *это, допустим, настоящая относительность нашей социальной жизни*, и в результате получается, что эти понятия, превращённые в такие яркие публицистические иллюстрации, утрачивают свою научную точность. В этом Сокал и Брикман обвинили французских интеллектуалов, утверждая, что когда они, допустим, используют квантовую теорию и её положения, они очень плохо знают контекст современной науки и превращают в метафоры то, что метафорой заведомо быть не может. Ни в коем случае. Но Сокал и Брикман не учли одного важного момента: что эти понятия, некоторые рассуждения, допустим, можно было бы говорить о том, что есть некоторые моменты непредсказуемости во взаимодействии вещей. Но можно, допустим, употребить какое-либо слово, вроде *квантовая неопределённость* или, допустим, *контингентность*, то есть непредрешённость исхода событий. Поэтому Деррида и другие представители деконструкции могут одинаково успешно обращаться и, например, к языку современной физики, и, например, точно с не меньшей успешностью к языку, скажем, средневековой философии и брать термины, допустим, из Бернарда Клервоского или Фомы Аквинского. Это уже начали феноменологи, рассказывая про Франца Брентано с его интенциональностью. Например, слово *контингентность* сейчас очень востребовано во французской философии и вообще в современных дискуссиях. То есть непредрешённость исхода событий, отличающаяся от детерминизма. Истоками мысли Деррида была прежде всего деструкция Хайдеггера. Я уже упоминал, что из-за свойств французского языка, где деструкция бы означала разрушение, это было переведено как деконструкция. В чём это суть? В чём суть Хайдеггера? Прежде всего, он был недоволен тем определением истины, которое господствовало в философии, начиная с Платона и Аристотеля и вплоть до XX века, когда истина понималась через референции, через отсылку к реальному положению дел. Хайдеггер вспоминал, например, средневековое определение истины как адекватности, то есть приспособление ума к вещи или к действительности, к реальности. Я не знаю, как лучше тут перевести, но, по видимости, здесь имеется в виду реальность. Хотя математические экспликации, например, перевод *рес* на арабский, привёл к возникновению алгебры, поскольку там *рес* была понята не как вещи материального окружающего нас мира, а как некая единица, которая может быть нулевой, отрицательной. То есть как некоторый квант, а не некая вещь со своими свойствами. Но во всяком случае, именно такое определение истины совершенно Хайдеггера не устраивало, потому что оно исходит из того, что возможно тождество бытия и мышления. А тождество бытия и мышления с точки зрения Хайдеггера — это довольно опасный философский шаг, так как приводит к некритическому обращению с окружающим миром. Поэтому вместо этого он выдвинул другое понятие об истине, вспомнив о греческом слове для истины *алетейя*, которое буквально означает *не закрытость*, то есть то, что не спрятано. Такое обозначение истины есть и в русском языке. Само слово *истина* означает то, что явлено, вытянуто на свет. Вероятно, изначально истина понималась как обнаружение скрытого преступления, как обнаружение того, что что-то хотели спрятать, какой-то скелет в шкафу. Но этот скелет из шкафа весьма скоро вывалился. Поэтому слово *истина* в греческом и называется *не закрытость*. Но Хайдеггер понял это слово довольно поэтично, не как то, что кто-то в порядке юридическом, в порядке осуждения, скрывающего преступника, находит какие-то улики, а в том, что истина сама себя раскрывает, сама себя о себе рассказывает, сама говорит о том, что она есть. То есть на смену истины референции, как отсылки к положению дел, приходит другая истина — истина как самораскрытие, являет себя в блеске своей очевидности. И несомненно, такая истина, конечно, это истина, особо переживаемая, требующая особого режима мышления и требующей особой критичности. То есть нужно определять всякий раз те операции по установлению истины, которые есть в философии. Могут быть деконструктор либо то, что случается в большинстве случаев, либо создаётся какая-то словесная конструкция. То есть цель деконструкции — показать, в какой мере те высказывания или те тексты, которые должны были устанавливать истину, на самом деле устанавливают вовсе не истину, а какую-то её симуляцию, какой-то образ, и то, что на самом деле является воображением или конструированием. То есть нужно было оспорить общепринятые способы установления истинной философии, доказав, что на самом деле истина ускользает от всех этих способов и обнаруживает себя по-другому, вне дискурсивной. Дискурс может быть воспринят как недостаточный. Главный момент деконструкции — это демонстрация того, что любой текст, за который мы берёмся, может быть описан или осмыслен. Например, у нас есть трактат со строгой логикой, в котором вроде бы всё показано и всё вроде бы понятно, как именно что аргументируется: из А следует Б, следует С, из С следует Д. Казалось бы, что этот трактат должен быть всем понятен, и все должны воспринять ту истину, которая сообщается в этом трактате, как единственную несомненную истину. Но потом оказывается, что та точка зрения, с которой даже самый доказательный текст будет воспринят, может быть как нелепой, так и совершенно непонятной. Например, если человек подходит к трактату с критериями инструкции и скажет: *«Мне тут всё непонятно, потому что я не вижу, как это из А следует Б или из Б следует С, применить на практике»*. Или, например, другой человек, поэт, подойдёт и скажет: *«Здесь есть связь А и Б, есть связь и С, но ведь нужна ещё связь А и С для того, чтобы это было достаточно убедительным для меня как для поэта»*. И вот с точки зрения деконструкции абсолютно любой текст может быть воспринят как непонятный. Можно принять такую позицию, что мне в тексте ничего не понятно, и, соответственно, цель деконструкции — объяснить, а собственно, где именно текст может переключиться в режим непонятности и как сделать текст, который тем самым будет аргументированным и понятным. Деконструкция в варианте Деррида очень тесно связана с социальной проблематикой. Сам Деррида был правозащитником, и ряд его работ как раз посвящены тому, что многие недоумения, связанные, например, с присутствием беженцев в стране, могли бы разрешиться, если бы мы отказались от самопохуделости. Он указывает на факты языка, например, что *гость* и *хозяин* во многих языках изначально это было одно слово, что связь гостеприимства предшествует социальному статусу хозяина и социальному статусу гостя. И следовательно, если бы мы исходили не из ситуации социальной ратификации, сочли бы эту ситуацию неня, почему это одни хозяева, другие гости, ре человеческой природы, что, делая подарки, принимая гостей, мы тем самым реализуем некоторую социальную функцию, то вопросов с беженцами не было бы. С одной стороны, им бы было оказано бы гостеприимство, а с другой стороны, они бы научились бы быть хозяевами, то есть научились бы быть ответственными. Итак, деконструкция для Деррида — это был в том числе и способ принять беженцев. Искусственно. Их не важна. Например, можно вспомнить, сколько русских беженцев Франция приняла после Первой мировой войны и что, в общем-то, эти беженцы были тоже достаточно экзотичными. Россия — страна революционная, Россия — страна, отчасти непонятная Западу, довольно экзотическая в чём-то, восточная в чём-то, европейская. То есть русские беженцы тоже были для французского общества проблемой, некоторой экзотикой. И только отчасти, как раз такая практическая деконструкция русского ориентализма, которые были, допустим, русские сезоны Дягилева, обеспечила определённый статус русских беженцев во Франции, так как показала, что, допустим, русские сезоны Дягилева с их ориенталистским колоритом показывали, что главное в русской культуре — это не одни цивилизационные установки, а определённые коммуникативные способности и возможность одновременно экзотизма с ним работать, а не быть только представителем каких-то рутинных культурных навыков или структур. Без, допустим, этой работы русского Дягилева, без работы русских сезонов, может быть, во Франции не сладко. Исходя из во многом также исходит из антропологии, в частности антропологии тех дискуссий, которые велись, например, вокруг теории Мосса. Он настаивает на том, что представления о жертве, жертвоприношении и возникновении религии, частной собственности и многих других вещах, что дар не может сводиться исключительно к установлению социальных отношений. Что я тебе дарю подарок и ожидаю определённых социальных отношений, например, взаимности в ответ на этот дар. На самом деле настоящий дар бесконечен. То есть он вовсе не требует налаживания каких-либо социальных отношений в ответ на этот дар. Дар по-настоящему, если это дар, он одновременно является даром самого себя. То есть, давая дар кому-то, ты и себя даёшь в дар. Как того, кто приносит этот дар, ты сам становишься одной плотью с этим даром, связан с некоторым жертвоприношением. То есть перечни социального порядка отнюдь не его поддержанием. Дар — это непосредственное присутствие божества среди людей, потому что даром может всё давать только Бог. Здесь можно вспомнить как раз слова, уже упоминавшиеся, Августина о том, что дар — это то, что даётся даром. Благодать — это то, что даётся бесплатно. Вы знаете, там на итальянских визах: *gratis* — то есть дар, благодать даётся бесплатно. И вот так Деррида связывает целый ряд понятий, начиная от архаических и кончая понятиями христианской культуры, как в общем-то переучёт социальных связей. А как в общем-то переучёт социальных отношений открывает саму возможность свободы, саму возможность непосредственного соприкосновения с божеством. Другая тема, кроме те, здесь используют в том числе и некоторые особенности языка. Скажем, давать, например, давать место или дарить место — это будет в общем-то одно и то же. Деррида очень часто использует такие каламбуры, которые возможны во французском языке, в качестве аргументов, раскладывая слово, играя с его корнем, играя с его значениями. Здесь он, опять же, во многом наследует Хайдеггеру, который исходил из того, что немецкие слова с их укоренённостью, например, Хайдеггер использовал такой пример: *знать* — это и есть *мыслить*, а *мыслить* — это *благодарить*. Отличаются эти слова только одной гласной. Но на самом деле Хайдеггер был прав, и этимологически, научно действительно это на самом деле исторически одно и то же слово. То есть, как мы, например, иногда говорим: *«Я думаю с благодарностью»*. Вспомнить, то есть эта связка думать и благодарить, она есть не только на уровне корней немецкого языка, но и на уровне интеллектуальном. У Деррида была несколько другая задача. Ему было важно не в родном языке раскопать какие-то очевидные и слишком наивные доказательства мысли и переживания. Вот эта, допустим, связь философской мысли и религиозной благодарности ему необходимо было совершенно другое, а именно показать, как в самом языке работают те же закономерности, которые работают в нашей мысли. Скажем, он анализирует известное слово *пока* (с Богом) и говорит о том, что прощание может пониматься и как отпущение человека на волю, что теперь он находится в воле Бога, но теперь может пониматься и как то, что любой, с кем мы прощаемся, в чём-то оживает, в чём-то становится для нас уже не товарищем, не другом, собеседником, а в какой-то мере Богом. Тот, кто уходит и приходит, тот, кто в чём-то для нас пример, идеал, а в чём-то для нас некий отсутствующий объект и так далее. То есть благодарность тому, с кем мы расстаёмся, ностальгия, связанная и печаль, связанная с расставанием — это для Деррида вполне религиозное чувство, связанное с идеализацией объекта. Ну и с принятием его как чего-то другого. Понятие о другом — это важное понятие французской теории. Его, конечно, разрабатывал прежде всего французский мыслитель литовско-еврейско-русского происхождения Эммануэль Левинас. То есть Левинас — это исключительно важный мыслитель для Деррида, который именно обосновал слово *другой* в значении философско-правовом. Мы наблюдаем в человеке в настоящий момент *другого* — это как спасение, так как спасти мы себя своими силами не можем. *Другой* — это как некоторое абсолютное суждение, так как наше суждение мы постоянно присваиваем и переосмысливаем, и оно есть *другой*. Друг может увидеть в нас то, что увидим в себе, потому что мы всякий раз переосмысливаем, что его *другой* иногда слишком широк и включает в себя сто и просто некие эпизоды жизни. А Деррида пытается дать более политическое обоснование *другому* как обоснование социальной и личной самостоятельности, а не столько какого-то удовольствия, которое мы получаем, когда видим свободу, дарованную нам извне, видим, что мы не ограничены и не находимся в плену своих эмоций. Другая тема Деррида — это тема письма, понимаемая как прежде всего определённое соотношение, соотнесение с языком, как попытка избежать языка с его тотализующей властью, избежать собственной телесности. Но при этом письмо оказывается некоторым регламентом, который, в общем-то, берёт в плен не только нашу мысль, но и нашу собственную телесность. То есть письмо постепенно превращается в такой механизм воспроизводства рутинных социальных практик. Когда мы пишем, мы тем самым воспроизводим некоторую дисциплину, которая потом становится и социальной дисциплиной. Поэтому Деррида говорил о том, что очень важно сохранить письмо в качестве механизма самосознания, аналога новского зеркала. Но при этом недопустима фетишизация письма. Этому посвящена его *граматология*, в которой он указывает, как возникает языковая норма, что языковая норма с одной стороны пытается регламентировать наше суждение, а с другой стороны часто складывается из случайных обстоятельств, например, из желания закрепить тот или иной опыт, превратить что-то в норму, которая выгодна в данный момент. То есть что письмо действует, например, как экономика, примерно в которой, с одной стороны, действительно обеспечивается движение капиталов и товаров, а с другой стороны, экономика, если её не развивать специально, превращается в некие рутинные операции, часто нерациональные и невыгодные. И вот цель деконструкции — показать, а где же письмо может стать вновь рациональным, где оно может стать, превратиться из рутинизации тела и из рутинизации социальных практик на оборот в освобождение тела и в освобождение социальных практик, где письмо превращается из вот такой постоянной рутинизации происходящего в наоборот, в такое переживание уникальности происходящего. Что акт письма может быть тоже уникален, как и акт речи или как акт личного самосознания, или как уникальность отдельной личности. Для этого Деррида в том числе исследует творчество Жана Жака Руссо, вслед за Полем Де Маном, основателем такой вот... Вот деконструктор исповеди, основанной не на телесном восприятии письма, а наоборот, на постоянном отделении письма от тела, постоянной идеализации себя в письме, постоянной, можно сказать, фальсификации собственной жизни в самих свойствах письма. Поскольку письмо всегда ограничено, никогда невозможно фиксировать все свои переживания или все свои мысли. Письмо — это всегда условная форма. Само слово *письмо* может означать и *письмо к другу*, а не только запись, как фиксация письменными знаками мыслей. Соответственно, получается, что, занимаясь письмом, Руссо фактически отвлекался от реальной телесной данности. Письмо в общем-то у него является таким очень сложным механизмом не столько познания себя, сколько фальсификации себя, разработки литературной личности, которая отличается от его реальной личности. Причём если Поль Де Ман пишет о Руссо с некоторым одобрением, что это связано с личными обстоятельствами, поскольку он был редактором нацистской газеты во время Второй мировой войны, он скрывал это обстоятельство до последних дней, уже став американским профессором. Ясно, что никто бы не похвалил его за такую пропагандистскую деятельность. Но во многом его мысль основывалась на том, что человек никогда не равен собственному письму. Даже если человек пишет искренне, он всё равно оказывается в ситуации, когда механика воспроизводства мысли на письме делает человека другим, чем та телесная данность, в которой он самоопределяется. Если Поль пишет о Руссо с одобрением, считая, что именно так изобретена психологическая нюансировка, то Деррида пишет об этом с меньшим одобрением, указывая на то, что Руссо постоянно занят фальсификацией себя. Фактически, он пытается удержать некоторый баланс между реальностью и мыслью, но постоянно этот баланс разрушает, потому что реальность оказывается сырым материалом, а мысль — перезревшей, афористической. Проблема для грамматологии у Деррида состоит в том, что он старается соблюсти некоторый баланс между наблюдениями над реальностью и репрезентацией этой реальности в тексте. Но в результате само фатальное устройство механизмов письма приводит к тому, что высказывания о реальности оказываются воспроизводимыми, а следовательно, перезревшими и не отвечающими изменчивости реальности. В свою очередь, сама реальность, которая берётся под углом зрения как некий сырой материал, оказывается слишком сырой. Поэтому Деррида ставит вопрос о том, как можно избежать такого восприятия окружающей реальности. Он говорит о том, что возможно письмо другого типа — письмо, внимательное к этимологиям, показывающее, насколько на самом деле любое высказывание и любое категориальное высказывание не готово. Даже наиболее завершённая мысль оказывается в чём-то не готовой, в чём-то импровизационной. Деррида, например, говорит о библейском рассказе о Вавилонской башне. Он начинает исходить из каламбура: французское *autour* может быть прочитано как *autour* (вокруг) и *tours* (башни). Исходя из этого каламбура, Деррида указывает на то, что образ Вавилона, то есть образ цивилизации, созданной языком, одновременно оказывается и образом разрушения этой цивилизации. Если мы вспомним Вавилонскую башню, каламбур позволяет переключать аспекты: в одном аспекте это цивилизационное достижение, а в другом — провалившийся проект. Как только мы начали вычленять в нём что-то определённое, Деррида спорит с цивилизационной мыслью, начиная от Цицерона и до Руссо, утверждая, что люди, объединившись для своей безопасности, научились говорить, то есть вместе что-либо планировать и строить города как институты своей безопасности. Но библейский рассказ о Вавилонской башне показывает не безопасность такого института, а раскол, который происходит уже внутри тех, кто владеет языками и начинает говорить на разных языках, то есть начинает не понимать друг друга. Деррида стремится показать, что то, что казалось цивилизаторским, что язык или речь казались достаточным объединением людей для достижения каких-либо целей, перестаёт работать. Как только мы вспоминаем башню, мы вспоминаем какое-то утверждение, которое может быть сопоставлено с философским утверждением. Утвердить башню и утвердить какой-то тезис — это значит, что какое-то утверждение оказывается не до конца понятным всем. Всегда найдётся какая-то точка зрения, которая скажет: *«А король-то гол!»* Это непонятно, на самом деле этот текст не читаем. Кажется, всё логично, а на самом деле непонятно, о чём это. Всегда найдётся такой возражающий, и возникнет вновь философская ситуация Вавилонской башни, когда одни строители вдруг перестали понимать других строителей. Значит, какой выход из этого? Принятие, по сути дела, многоязычия Вавилона, принятие того, что другой язык является не способом понять или не понять, а способом очертить. Если кто-то говорит на другом языке, это означает, что он имеет свои границы или свои привычки, и возможно отнестись к нему с гостеприимством уже исходя не из языка, а из дара или каких-либо ещё ритуалов. Эти размышления Деррида о языке, конечно, связаны в том числе и с детством УВО как приметой особых людей, будь то избранников или, наоборот, изгоев — народа, любимого Богом или народа, сжигаемого в печах Освенцима. Язык оказывается тем, что больше выживет человек или не выживет человек. Обращение к ресурсам языка оказывается, по сути дела, проверкой того, работает ли человечность сейчас в самом человеке. Возможно ли, что кроме гонений и преследований будет и наоборот — дружба и понимание. Влияние Деррида в теории разных стран сильно. Во Франции, например, он важный автор для проекта *Европейский словарь философии*. Хотя ссылки на него далеко не являются лидирующими в этом словаре, сама идея того, что понятия являются не только определениями вещей, но и исследованием нашего опыта в отношении к вещам, — это важнейшая мысль для словаря. Те или иные понятия показывают не столько, как устроены вещи, сколько, как устроено наше восприятие, способное соотнести себя с теми или иными вещами. Также Деррида до сих пор важен для Америки как политический мыслитель, так как он и Ханна Арендт рассуждают фактически в условиях учреждения государства. Если у Арендт государство учреждается некоторой республиканской волей принятия Конституции, то Деррида показывает, что сама Конституция должна тоже иметь режимы дружелюбного чтения, что она должна быть подарком, а не просто авторитарной волей многих учреждённых документов. Для него Моисей не менее важен как политик, чем Перикл или Линкольн. Деррида востребован в религиозном повороте современной мысли, хотя сам он не относил себя ни к какой конфессии и более того, исходил из того, что Бог — это такая же категория философского эксперимента, как и многие другие. Тем не менее его представление о даре, благодати, о письме в значении священного писания, которое проверяет людей, а не просто инструктирует их, является книгой страшного суда, а не только инструкцией, как себя вести, оказалось очень важным для христианской мысли. Наконец, в России Деррида также востребован. Он приезжал в Россию в девяносто третьем году с лекциями. В том числе Деррида пытался указать на некоторые положительные свойства марксизма, в частности на способность марксистской теории постоянно делать практику критерием теории. С другой стороны, если это критерий, но если суждения всякий раз будут разными, то марксизм существует и как политический призрак, а не только как политическая реальность. Он пытался обратить внимание на гуманистический марксизм, а не только на неудачу советского эксперимента, что, разумеется, не очень было востребовано. Но такие мысли, как Бибихин, переводчик позиции Деррида, он, конечно, усвоил лучшее, а именно способность ставить самые острые вопросы, способность не просто жить среди философских вопросов, а быть философским вопросом и быть спрашивающим и отвечающим.
Залогинтесь, что бы оставить свой комментарий